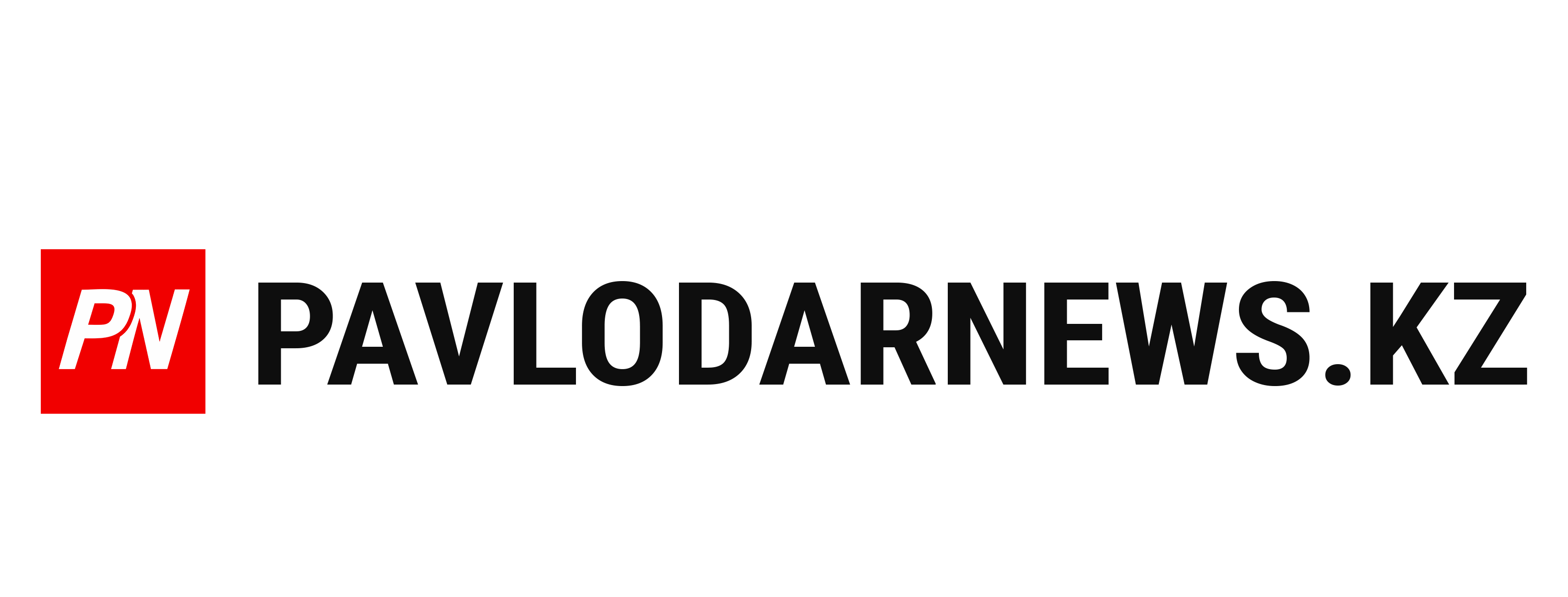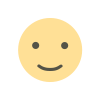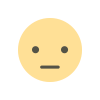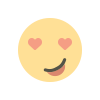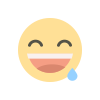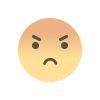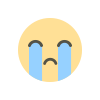Тундра зовёт: Сойко. Жизнь на грани двух миров

Корреспондент @Pavlodarnews.kz стала эковолонтёром и оказалась на самом краю страны – в Ямало-Ненецком автономном округе. Она не только примерила ягушу и кисы ненцев, но по-настоящему соприкоснулась с их жизнью, душой и философией тундры.
Хотя поездка пришлась на июль, по павлодарским меркам жаркий месяц, в Арктике лето ощущалось совсем иначе. Рабочая роба, лицо, скрытое под москитной тканью, и нескончаемые облака гнуса. На Иртыше такое количество насекомых даже не снится. Вернувшись, я поняла: наши комары – это ещё цветочки.

Разговор с Никитой Вануйто – одним из коренных жителей – состоялся между этапами экологической миссии в формате так называемого «глубинного» интервью. Мы встретились в стенах интерната для детей тундровиков. Для приезжих слова вроде «дом оленевода», «ямальский олень», «тундровик» звучат необычно, а на Ямале они часть повседневной жизни. Стоит покинуть посёлок, и о цивилизации в тундре напоминает разве что снегоход, и только зимой. А в посёлке всё по-другому: дом оленевода на сваях, несколько километров бетонной дороги, опоры электропередач, школа, ФОК, общественная баня и скоростной интернет. И, конечно, люди Севера, несмотря на суровый климат, отзывчивые и добрые. А ещё «мерзлотник» – раньше в подземных гаражах в вечной мерзлоте хранили мясо оленя, рыбу. Сейчас у всех дома холодиьники.
Увидеться с Никитой удалось случайно – он заехал в поселок Сёяха по делам. Обычно он живёт среди оленьих стад, в бескрайней тундре, там, где ветер гуляет между ненецкими чумами. Но в последние годы пришлось изменить всё.
«Я родился в тундре», – начал свой рассказ Никита. Его ненецкое имя – Сойко, что в переводе означает «молодой оленьий рог». Так зовут его близкие и собратья-оленеводы.

«Зов тундры»: история одного возвращения
– До семнадцати лет я жил в тундре, кочевал вместе с семьёй, – рассказывает 36-летний Никита Вануйто. – Потом пошёл работать рыбаком, трудился до двадцати лет, но всё же вернулся обратно. Тундра зовёт. Она притягивает, манит. Мы кочевали в стороне Сабетты. Отец и мать до сих пор живут в тундре. Отец – пенсионер, а перебраться в посёлок категорически не хочет. С ним живут дети и внучка.
Но климат меняется, это беспокоит Никиту: жара, затем внезапный холод, постоянные перепады температуры. Дышать становится всё труднее.
Из-за семейных обстоятельств Никите пришлось переехать в Сёяху – посёлок на Ямале. Сейчас он работает в Доме культуры: участвует в мероприятиях, мастерит поделки.
– Больше всего в жизни люблю работать. С детства так. Радует рыбалка, охота – добываю дичь, гусей. Мастерить умею, никто этому не учил. В интернате на уроке труда вырезал двуглавого орла, потом его забрали в школьный музей как герб, – признаётся собеседник.
А ещё говорит, что учёба давалась ему непросто. Возможно, баловался, возможно, пропускал занятия. Среднее образование получил в Сёяхе.
Не могла не спросить о воспитании детей оленеводов. Их с раннего возраста учат строить чум, ловить рыбу, обрабатывать оленью шерсть. Они буквально взрослеют в условиях арктической реальности.
– В семье ненцев строгое воспитание. Если я сам расслаблюсь, сын будет непослушным. У меня четверо детей – все мальчики. Старшему восемь, затем шесть, три и младшему год. Конечно, воспитываю в духе кочевников Севера: быть в гармонии с природой, уважать родителей, чтить традиции. С пяти лет они уже помогают взрослым. Но когда вырастут, выбор будет за ними. Хочешь – едь в город, хочешь – оставайся здесь. Главное, пусть выучатся, а дальше пусть решают сами. Запрещать ничего не буду, – говорит Сойко.

Сойко о свободе, культуре и жизни в тундре
За три года он освоился. За это время попробовал пожить в Салехарде, но не нашёл своего места. Тесно ему среди бетонных стен. Некоторым тесно и в посёлке. На краю населенного пункта можно увидеть десятки чумов – традиционные жилища ненцев. Летом семьи тундровиков перезжают туда, как на летнюю дачу.
– Город не люблю. Вообще кошмар. Город – это тупик. В Салехарде бываю раз в год, ничего хорошего там нет. Глаза не отдыхают. Отдыхают они в тундре. Тут я счастлив – спокойно, рядом все близкие люди. Все мои предки занимались оленеводством, я первый, кто стал жить в посёлке из нашей семьи, – говорит Никита.
Особенность ненецкой семьи в том, что с родными можно встретиться всего раз в год. Оленеводы с оленями откочёвывают далеко от посёлков.
– С отцом вижусь только зимой. По традиции раз в год у нас День оленевода, большой праздник коренных народов, все собираются с разных точек Ямала. Обряды, которые мы проводим раз в год, делает отец. Я уже в этом не участвую. Оленеводы свободны, ни от кого не зависят, сами по себе живут. Зарабатывают этим. Плюс государство раз в год выделяет помощь – печки, бензопилу, генератор, – пояснил собеседник.
У среднего оленевода примерно 100-150 оленей на семью. Богатый – если 500-800 оленей. У одной семьи бывает и тысяча животных. Несколько лет назад в тундре был падёж – «наст».
– Оленеводам выделяли помощь за утрату поголовья. Этого хватало: можно было свободно передвигаться по тундре. Снегоходы давали. Некоторым – деньги. Некоторые оленей перекупали, чтобы сохранить стадо. Работали – кто как могли. Культуру мы стараемся сохранить, нас мало осталось. Мы отличаемся от других народов. Мы морозостойкие. Выдерживаем самый суровый климат. Мы выносливые, не каждый это выдержит. Ещё мы агрессивные... но это редкое явление, – смеётся Никита.


О быте тундровиков
Самой холодной зимой Никита называет минус пятьдесят, да ещё и с ветром.
– Когда живешь в тундре, умеешь определять погоду. По сиянию в небе можно понять, что будет завтра. Олени помогают: они ведут себя по-другому. Могут определить направление ветра, откуда дует. На ветер не идут, могут ходить на три минуты быстрее, – рассказал тундровик.
Он говорит: одного оленя узнает из тысячи.
– Олени все разные, хоть тысячи будут. Для вас одинаковые, а мы всех определяем. У них характеры разные. Некоторые пятнистые, некоторые полосатые, – рассказал собеседник.
Многим кажется, что жизнь в чуме – романтика. Но это постоянный быт: вода из озера, топить печку, готовить еду детям, и всё это в суровой зиме. Лето короткое, максимум два месяца. А ещё полярные дни и ночи – это степняк точно не поймёт, ни биологически, ни психологически.
По словам Никиты, в тундре остаётся много молодых семей. Он бы и сам хотел уехать из посёлка, где работы становится всё меньше. Но чтобы спокойно жить в тундре, ненцам нужна поддержа государства.


Сойко с удовольствием вспомнил свой быт тундровика, который остался в прошлом.
– Утром вышел примерно в семь. Жена встаёт раньше, готовит завтрак. На улице свежо, красота. Запряг оленей, посмотрел стадо. Приехал обратно, дальше по своим делам: либо на дрова, либо на рыбалку, или вообще на охоту. Дети и жена в чуме. Если ребёнку лет шесть, можно взять с собой. Дальше таскаю дрова, воду или лунку делаю. Сейчас завёл снегоход «Буран», уехал, всё сделал. Раньше ездили на оленях, пилили вручную. Я женился в 24, это у нас поздно считается. Потому что долго искал – не было интернета. А сейчас все знакомятся по интернету, – рассказал Никита.
Все чумы одинаковые. Если приехал гость, надо чаем напоить, кто бы ты ни был – турист или тундровик. Каждый, кто занимается ремеслом предков, умеет не только определять погоду, но и территорию.
– Летом границ нет. Весной, когда олени телятся, тогда есть границы. Сейчас замечаем, что пастбищ становится меньше, поголовье растёт, корма меньше. По моему мнению, тундра может ещё принять оленей. По поверьям, тундру нельзя засорять, она этого не простит. Нельзя отряхивать священную нарту [узкие длинные сани – прим.ред.], такая есть у каждого рода. Священную нарту даже женщина не должна трогать, – говорит собеседник.

Тундра – не только для коренных
В посёлке, где мы были, живут не только коренные жители. Есть и те, кто приехал и влюбился. Например, Сергей Марков, представитель «Ямалэнерго» уже 20 лет живёт в Сёяхе. Энергетик встретил девушку и остался.
– После службы сюда приехал, на работу устроился электромонтёром. А дальше пошло-поехало, должность за должностью, прошёл всю лестницу до самого верха. Может, скажу слишком громко, но правда: у меня, наверное, сердце болит за это село и за то, как оно развивается – больше, чем у тех, кто здесь родился. Так бывает. Это уже к психологии относится, – говорит Сергей.
Он признаётся: полюбил Север, и не понимает, как можно его не любить. Наверное, как и волонтёры, которые приезжают, чтобы увидеть быт ненцев, полярные дни, попробовать оленину и этого достаточно немного влюбиться. Символично, что материал написан в те дни, когда очередная группа эковолонтёров приехала в отдалённые села Ямала.
Интервью записаны в июле 2022 года. Поселок Сеяха, ЯМАЛ.